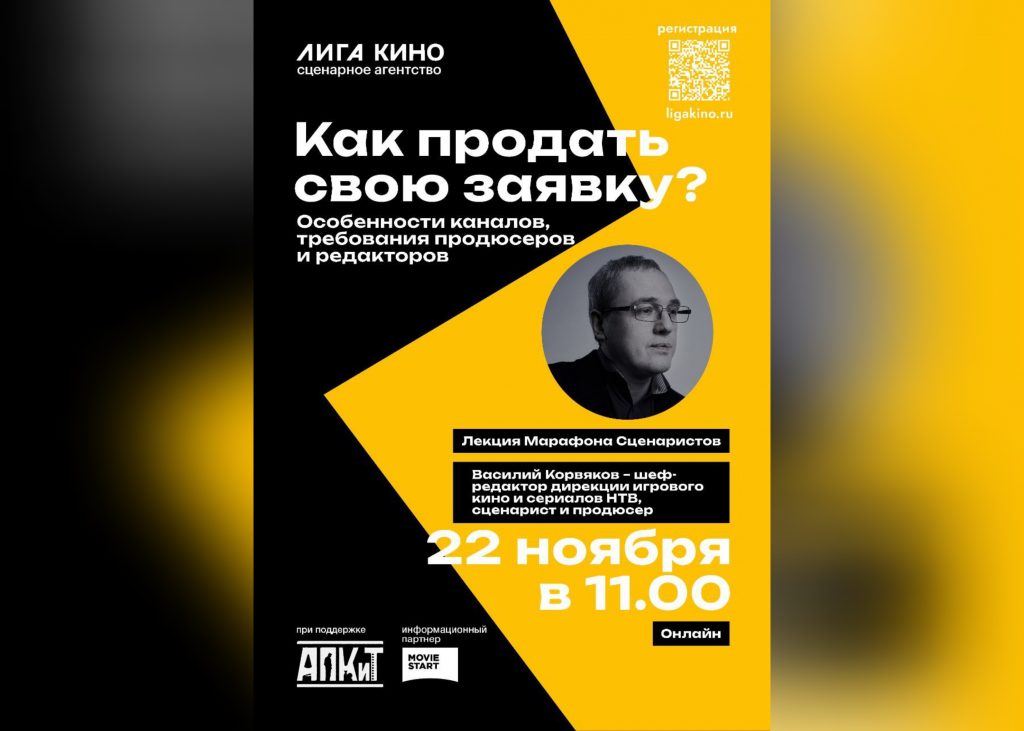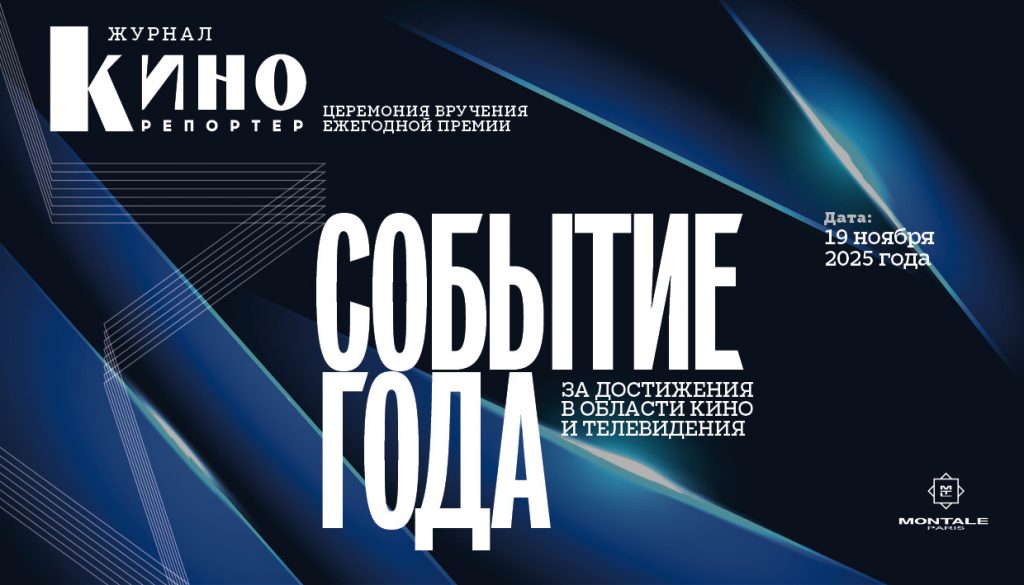Интервью с режиссёром Марией Стрельцовой — второе в серии цикла бесед проекта «Сначала было чувство: молодые режиссёры», посвящённого тем, кто сегодня формирует новое российское авторское кино. Региональность здесь не ограничение, а почва, на которой рождается кино — игровое или документальное.
Вторая героиня — Мария Стрельцова, режиссер игровых фильмов «Неглект», «Нойды: Северные ведьмы», «Наузы». Её работы уже получили признание на многих кинофестивалях — в России и за рубежом.
— Мария, помнишь, когда впервые почувствовала, что кино — это твоё?
— Многие ребята рассказывают, что пришли в режиссуру, впечатлившись каким-то конкретным фильмом или сценой. У меня всё сложилось иначе — я очень рано, в двенадцать лет уже точно знала, что хочу заниматься режиссурой. И пришла я к этому скорее через театральное искусство, хотя и в очень домашней форме. В моей семье среди старших родственников нет творческих профессий, но в детстве с двоюродными братьями и сёстрами мы постоянно ставили спектакли, концерты. Потом всё это переросло в постановки в деревне, куда мы ездили на дачу. И в какой-то момент, в 12-13 лет я уже сама организовывала массовые праздники для местных жителей. Постепенно всё стало серьёзнее: появились театральные постановки, декорации, авторские пьесы, которые я писала сама.
Почему именно кино? Честно говоря, трудно вспомнить конкретный момент — ощущение, что это было всегда. Театр тогда был естественным выбором: снять кино было сложно, техника дорогая, а монтажные программы оставались труднодоступными для подростков. Мы с братьями и сёстрами всё равно пытались что-то снимать — на телефон, на веб-камеру ноутбука, монтировали в простейших программах.

Фото: Кадр из архива Марии Стрельцовой
— Какой фильм в юношеские годы действительно тебя впечатлил?
Решающим для меня стало вовсе не кино, а фильм о фильме — большой видеодневник режиссёра Питера Джексона о съёмках «Хоббита». Мне было четырнадцать, английский я знала плохо, половину не понимала, но была заворожена. Я увидела, как устроено огромное производство и этот процесс настолько увлёк меня: режиссёр, который строит вселенную, не существующую в реальности. Тогда я окончательно поняла: хочу быть режиссёром.
Когда мне было шестнадцать, я попала в бесплатный кружок при Доме творчества в нашем районе — совершенно бесплатный, для всех детей. Им руководил режиссёр Дмитрий Робертович Спиридонов. Мы снимали на чистом энтузиазме. И когда я сняла свой первый короткий фильм, он позвонил моей маме и сказал: «Наташа, не отговаривайте Машу поступать на режиссуру. У неё есть потенциал».
— И дальше был путь в профессию?
— Долгий путь. Три раза я пыталась поступить во ВГИК. В первый раз сказали: «Мало жизненного опыта», во второй — «Почему не работаете в кино?» Мне не было и девятнадцати. Тогда я пошла ассистентом по актёрам на сериал «Чистые руки», окончила курсы кастинг-директора на «Мосфильме», но и в третий раз услышала отказ. Было очень легко сдаться, поверить, что «со мной что-то не так». Я переехала в Петербург и поступила в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Там с первого курса нас сразу бросили на съёмочную площадку. И именно тогда я впервые почувствовала, что нахожусь на своём месте.
— Когда я смотрела твои фильмы, сразу обратила внимание на титры — фамилия Стрельцова повторяется несколько раз.
— Анна Стрельцова, продюсер всех моих фильмов, — моя родная сестра. Она стала первой в нашем институте, кто получил крупный государственный грант на съёмку игрового фильма — «Нойды: Северные ведьмы». До этого гранты давали в основном документалистам. Разница у нас целых четыре года, и в институте часто думали, что мы двойняшки. Аня закончила школу в шестнадцать лет, в этом возрасте, получается, уже спродюсировала «Неглект», а в восемнадцать руководила экспедицией на Кольском полуострове. Мы всегда работаем большими съёмочными группами — по тридцать человек, и я восхищаюсь тем, как она умеет всё организовать.
В «Неглекте» можно было увидеть ещё исполнительного продюсера Надежду Стрельцову — мы двоюродные сёстры. Позже она ушла из кино в театр, а потом в ивент-сферу. Просто разошлись профессиональные пути.

Фото: Кадр из архива Марии Стрельцовой
— А родители тоже вовлечены в ваши съёмки?
— Они нам помогают с самого начала, и финансово, и физически. Начиная с «Неглекта», они устраивают себе своеобразный отпуск на съёмках. Это люди, которые вообще не имеют ни малейшего отношения к кино, но их очень вдохновляет то, чем мы с сестрой занимаемся. Для них выезд на съёмки — приключение, что-то вроде экстремального отдыха. Они всегда с нами. Папа, когда вошёл в курс дела, стал директором площадки, мама теперь стабильно кормит всю съёмочную группу трёхразовым питанием в экспедициях. И почему-то им это нравится. Вообще у нас на площадке всегда очень приятная атмосфера. Про семью я говорю не только о кровных родственниках — у нас уже есть настоящая киносемья. Это люди, с которыми мы не один пуд соли съели, и они продолжают с нами работать. Мы всё время вместе — на съёмках, фестивалях, на днях рождения. Это уже не просто команда, а целый живой организм.
— Мне кажется, спасение режиссёра — в своём маленьком, сплочённом коллективе. Мария, в твоих фильмах звучат темы травмы, памяти, внутреннего преодоления — и при этом это не внешняя драма, а очень тихая. Почему тема внутреннего состояния человека для тебя важна?
— Любой автор идёт от вопроса к самому себе — а что меня волнует? Снимать про то, что тебе безразлично, это невозможная и невыполнимая задача. Поэтому для меня первым был вопрос, а что меня беспокоит в людях вокруг, в обществе? «Неглект» родился из наблюдения за поколением несчастных детей, подростков, молодых взрослых, сломанных родительской холодностью и безразличием. Вроде бы всё в порядке, никто не бил, — а человек вырастает покалеченный изнутри. Меня эта тема волновала, потому что я выросла в других условиях. Это посыл к тем, кому уже плохо, что не нужно думать, что ты какой-то «неправильный». Нужно с этим разбираться. Поэтому мы сотрудничали с Фондом, который занимался помощью людям, столкнувшимся с физическим и психологическим насилием в семье. Мой посыл ровесникам в том, чтобы не травмировать своих детей.
«Нойды» и «Наузы», которые были сняты в регионах, — это уже вопросы идентичности, связи со своими корнями, землёй, с ближайшими родственниками и родовой системой в целом. В «Нойдах» показана более локальная история, приверженность своей культуре, семье, кровным родственникам, которые рядом. Персонаж здесь как бы всё время хочет уйти от своих корней к тому, что кажется более привлекательным, но не может: внутренняя прошивка всегда оттягивает назад. Этот культурный код, который прописан внутри человека, будет сильнее каких-либо новшеств. В «Наузах» — наоборот, о том, что происходит, когда человек отключен от своей корневой системы, культуры и семьи. Меня с детства волновала тема культурной памяти. Моя мама с Русского Севера, от неё я впервые услышала сказки, мифы, истории предков — всё это глубоко засело во мне. Сейчас, когда интерес к традиции и фольклору снова становится живым, я чувствую, что наконец могу говорить об этом с помощью киноязыка.

Фото: Кадр со съемок фильма «Нойды: Северные ведьмы»
— Через «Нойды» я впервые узнала о саамской культуре в России, шаманах, северных ведьмах. Как вы выбирали локации — ты их уже знала заранее или нашли специально под фильм?
— Локации для нас — ключевая часть замысла. Мой соавтор, сценарист Лиза Прохорова, всегда начинает работу с вопроса: «Где это происходит?» «Неглект» мы снимали в Ленинградской области, в Всеволжском районе, — тогда ещё без особых экспедиционных амбиций. А вот с «Нойдами» было иначе. Когда мне было пятнадцать, мы с родителями поехали в большое путешествие на Кольский полуостров. Я впервые увидела этот мистический север — горы, озёра, тишину, местных жителей. И я тогда подумала: когда-нибудь я обязательно здесь что-нибудь сниму.
Когда мы начали разрабатывать «Нойд», у меня была идея про трёх сестёр-ведьм, моя сестра-продюсер сказала: «Давай подумаем, где это может происходить». Мы понимали, что региональное кино часто получает грантовую поддержку, и для нас, студентов, это тоже было важно. Я сказала сестре, что мне нравится саамская культура, земля Кольского полуострова. Я чувствовала с этой землёй какую-то внутреннюю связь — метафизическую, культурную. Мы решили поехать снимать туда и были готовы к трудностям.
На показе «Нойд» была история, которая нас по-настоящему тронула. В зале сидела саамская бабушка — её представили как самую строгую на всём Кольском полуострове. Она поднялась, подошла, взяла микрофон и долго говорила на саамском. Мы с сестрой замерли: языка почти не знаем, в работе выучили только десять-пятнадцать слов. Потом она перешла на русский и это оказался поток комплиментов фильму, и отдельно — произношению актрис: они много занимались в студии речевого озвучивания, и бабушка сказала, что звучат почти без акцента, «лучше, чем многие саамы с выученным языком». Единственный спорный момент был в том, что у нас с бубном работает женщина: согласно традиции, эта роль принадлежит мужчине. Но в современной практике есть примеры женщин-шаманок, которые уже работают с бубнами и не так сильно придерживаются этой традиции. Потом нас даже пригласили в гости на острова: пасти оленей, ловить рыбу, слушать саамские истории, которые чужим обычно не рассказывают. Поэтому было особенно важно: не соврать, не обидеть и не исказить культуру.

Фото: Кадр из архива Марии Стрельцовой
— Не перестаю удивляться, как кино открывает закрытые двери. Давай перейдём к «Наузам». Что уже можно рассказать о фильме?
— Этот фильм создавался при поддержке гранта Росмолодёжи, поэтому летом уже провели премьерные показы: четыре в Архангельской области, несколько в Петербурге и Москве (включая область). Я больше люблю, когда кино едет в регионы: там зритель часто менее искушён авторским кино и появляются интересные трактовки, эмоциональные реакции и отзывы — от простых бабушек, а не от заядлых кинолюбителей. Очень тепло нас приняли в Чебоксарах, Сыктывкаре.
— Как проходили сами съёмки, где снимали и почему выбрали именно эти места?
География съёмок фильма «Наузы» получилась смешанной. «Сны» сняты в Подмосковье — там есть сегменты с северной природой: мхи, лес, нужная фактура. За культурной фактурой мы поехали в Архангельскую область, в село Большой Бор Онежского района. Деревенский дом абсолютно натуральный: художники лишь точечно подстроили детали под сюжет. Например, в доме, где происходят события, нет ни одного женского портрета — кроме фотографии сестры главной героини, на похороны которой она приезжает. Все женщины «спрятаны», их как бы и нет.
Эта история для меня родная ещё и тем, что мы с соавтором сценария решили работать со «своей» корневой системой — Русским Севером. Я человек с метафизическим взглядом на мир — это заметно по моим работам. Мое представление о мире метафизическое, и что, например, касается знахарства — естественная часть бытия, просто более тонкая. И поэтому «Наузы» стали для меня личной проработкой темы травм: мы наследуем от предков не только хорошее, но и плохое. Героиня — «патологическая жертва»: проблемы с матерью, с мужем. Она просто живет своей жизнью, но не знает, откуда такое состояние и почему что-то может в ней так больно отзываться.
Изначально мы думали о «Наузах» как о полном метре (даже проходили финал конкурса полнометражных дипломов в институте), но не срослось. Мы сделали хорошую короткометражную версию и теперь можем дальше думать над полнометражной версией. Людям часто не хватает времени погрузиться в атмосферу.

Фото: Кадр из архива Марии Стрельцовой
— Какой для тебя сегодня следующий шаг в кино после фильма «Наузы»?
Мы развиваем наш продакшн, и из творческого союза перерастаем в маленькую кинокомпанию и уже снимаем клипы. Для нас это ремесло и возможность попробовать маленькие форматы, пока идёшь к чему-то более масштабному. Из ближайших планов — продолжим региональные показы и фестивальный путь.
Беседовала Тимашева Камилла, автор проекта, выпускница Высших курсов ВГИК (киновед-редактор)