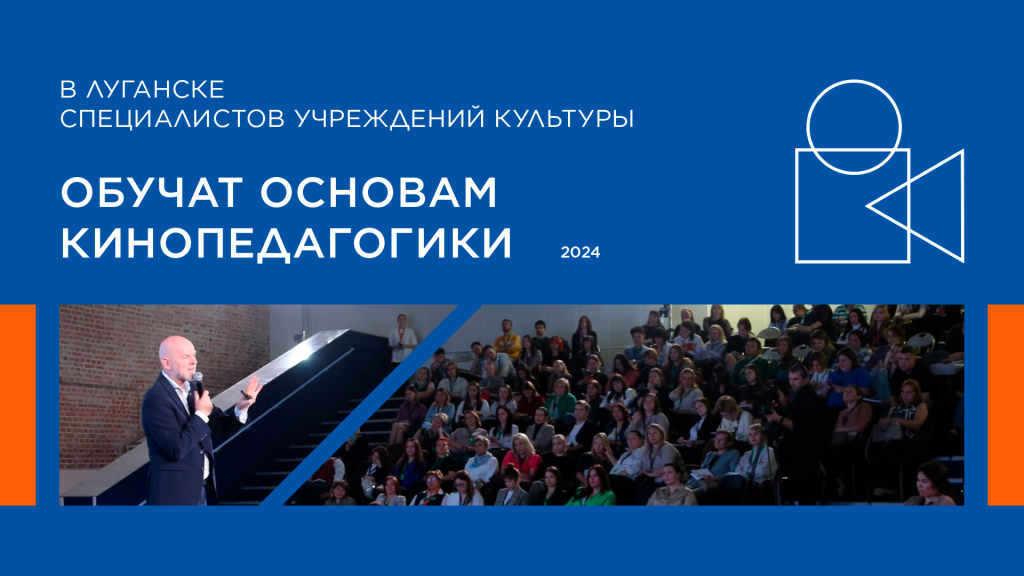Режиссёр Андрей Истратов снял более 400 фильмов для канала «Культура», но не считает их фильмами. Его мастером был «игровик» Марлен Хуциев, но сам Истратов ушёл в док. Он передаёт свои знания новому поколению кинематографистов и поясняет, почему погоня за хайпом губительна для художника. А ещё он снял фильм про Галину Волчек к 90-летию режиссёра и рассказал, как отказывался от заманчивых сцен. Об этом и не только – в интервью MovieStart.
— Андрей Валерьевич, Вы являетесь одним из самых ярких документалистов своего времени, который передает знания новому поколению режиссёров. Расскажите о своём образовательном проекте «Школа умного кино».
— В этом году мы вновь запускаем два цикла семинаров в рамках «Школы умного кино». Один цикл – «Киноблокнот: Точка внимания» по игровому советскому кино, который в чём-то продолжает наш цикл 2022 года. Новый цикл поддержан Министерством культуры Российской Федерации. И второй цикл семинаров по неигровому кино – «Киноблокнот документальный: Эпоха ЦСДФ». Этот цикл поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Это классика документального кино, которую сейчас никто не помнит и не знает, а её нужно знать, чтобы как минимум «не изобретать велосипед». Более того, ЦСДФ – это в первую очередь люди, которые не только отражали, но и формировали историю страны. Вехи, победы, испытания, преодоления. Ну и конечно, киноткань, забытые сегодня форматы художественной, образной публицистики, увлекательного индустриального фильма.
Все это – воздух, буквы, основы, всё, чем должен дышать документалист! Да и, банально, технические основы – даже знать, в каком направлении нужно вести панораму, – все это прямиком к ЦСДФ…
— На Ваш взгляд, современные документалисты не изучают классику документального кино?
— Как бы ответить поточнее… В прошлом году у меня был забавный случай. Мне вручали на фестивале «Профессия – журналист» приз как раз за первый цикл «ЦСДФ: Точка отсчёта». И после церемонии ко мне подошла женщина, сценаристка, представлявшая на фестивале свой игровой фильм, и сказала мне, что только от меня узнала, кто такой Дзига Вертов. Она, отучившись в киношколе, понятия не имела, кто это такой, а теперь ей стало интересно, как он работал, какой интересный язык и т.п. Мне стало, конечно, приятно, что я помог человеку – человеку, который уже в индустрии, но при этом не знает, скажем так, основы основ. Как же это так?
Сегодня, несмотря на весь этот тренд на документальное кино, его якобы возрождение, существует большая проблема – нехватка реального образования в документальном кино. Как правило, люди не знают, что это такое на самом деле. Чтобы делать документальное кино, его не всегда обязательно снимать. Оно может быть и монтажное. К примеру, мне нравятся работы Андрея Осипова, в частности, «Фаза луны» и «Восточный фронт». Это замечательные работы и прекрасные примеры монтажного кино, где автор работает только с хроникой, то есть с чужим материалом. Но как он работает с ней! Он в неё вглядывается, интонирует ей так, что заставляет нас, зрителей, проникать в неё. Мы не просто смотрим что-то, а начинаем находиться внутри материала. Это очень близко к тому, что делал мой мастер Марлен Мартынович Хуциев. Я сейчас стараюсь так же подходить к материалу, когда делаю фильмы о ЦСДФ, значительно тоньше, чем во время работы над «Легендами мирового кино».
— Чему Марлен Хуциев научил Вас?
— Нам у него ещё учиться и учиться, разбирать и разбирать его киноязык. Потому что Хуциев – это киномузыка. Именно у него нужно учиться современным документалистам. Не тем, кто сегодня хочет быстренько поймать хайп, сделать модно-молодёжно, а тем, кто на самом деле пытается передать интонацию, мысль.
— Вы много лет делали кино для ТВ. В чём отличие документального кино от телевизионного репортажа?
— Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно обратиться к сути природы документального кино и задаться вопросом: а что же такое вообще документальное кино?
Вот мы сняли, допустим, для нашего блога видео на телефон. Это документальное кино? Вряд ли. Или посмотрели по телевизору репортаж… документальное кино? Совсем нет. Или развёрнутый репортаж, который по телевизору называют документальным фильмом, а по факту это просто более длинная версия обычного репортажа.
— Почему Вы не считаете всё вышеперечисленное документальным кино?
— Давайте в качестве примера обратимся к классике – фильму Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». И представим, как бы выглядел по телевидению подобный проект, если бы его снимали сейчас. Как бы он начинался? Скорее всего, с какой-нибудь свастики или Гитлера. Вообразим фрагмент: Гитлер стоит перед толпами немецкого народа и характерным взмахом руки приветствует людей. Потом возникнет так называемая говорящая голова, которая расскажет нам про того или иного человека, потом подводка и уже другая голова на экране что-то говорит и всё это соединяется закадровым голосом. Так бы, скорее всего, сделали сейчас.
А как начинал Ромм свой фильм? Давайте вспомним. Он начинается с детских рисунков. Но какое отношение имеют детские рисунки к фашизму? А здесь уже и начинается режиссёрский взгляд, режиссёрская подача, интонация и интерпретация. Потому что дальше мы понимаем, что одни рисунки нарисованы немецкими детьми, а другие – советскими. Но по сути и те, и другие рисунки – детские, вне зависимости от расы, национальности, гражданства… этот образ говорит об ужасной трагедии, которая постигнет в будущем этих детей с обеих сторон. И в некотором смысле возникает шок, потому что приходит понимание, ведь на самом деле мы все рождаемся очень хорошими людьми и никому зла не желаем. Это сразу задаётся режиссёром. Вот это и отличает документальное кино от развёрнутого репортажа, например.
Что делает Ромм дальше? Каким образом он показывает трагедию? Что все эти зверства совершали простые люди? А он находит прекрасный ход и сопоставляет человеческое и нечеловеческое, таким образом кристаллизуя трагедию внутри (и внешне) человека. Режиссёр рассказывал, что как-то ночью ему пришло, наконец, решение: он взял фотографии, которые носил собой в портмоне немецкий солдат. И сопоставил. На одних были изображены его дом, семья, дети… а рядом с ними, в этом же бумажнике, лежали фотографии, где он стоял на фоне повешенного партизана, как он веселится с друзьями рядом с убитыми или даже еще не убитыми, а приговоренными русскими – детьми, женщинами. И все это находится в одном портмоне. Потом Михаил Ромм много раз использовал подобные вещи, которые подтверждали, что это не единичный случай у немецких солдат на фронте. Это и есть внутреннее саморасчеловечивание.
В каком-нибудь развёрнутом репортаже, телевизионном, это показали бы с помощью интервью, мол, да, такое было… Но было бы это так… шокирующе? Без такого образа… Когда тебе показывают, вроде бы нормального человека, семьянина, который уже… не человек.
— Что характерно для документального телевизионного кино?
— Действительно, существует форма телевизионного документального фильма, но это тогда, когда в нём тоже есть киноязык, образный ряд. Я сделал 420 программ «Легенды мирового кино» и неслучайно назвал их именно программами. Потому что хотя я в них и старался кое-где использовать киноязык, особенно когда речь шла про режиссёров, старался воспроизвести их манеру работы, монтировать так, как это бы смонтировал сам режиссёр, снимая фильм о себе, одним словом – используя киноязыковые находки. Но это всё же телевизионная монтажная программа. Что-то с натяжкой можно назвать телевизионными документальными фильмами, но в большинстве случаев форму диктовал формат 26-минутных быстрых программ.
Это сейчас, работая практически над тем же материалом, снимая свои фильмы из цикла «Киноязык эпохи» – или про своего мастера Марлена Хуциева, или про Бориса Барнета, Льва Кулешова – я свободнее в формате, стараюсь уловить то, что, возможно, ранее ускользало от меня. И это настоящий восторг, когда «запутавшись в киноткани», находишь для себя или даже изобретаешь что-то новое. И тогда все вокруг перестает существовать. С долей улыбки могу сказать, что это моменты счастья режиссера.
Но вот что печалит. Иногда читаешь в разных интервью о том, что документальное кино входит в тренд, становится востребованным… Вроде, должна радовать подобная история, а печалит.
— Почему?
— Потому что непонятно, о каком именно документальном кино идёт речь в таком случае. О настоящем? С образным рядом? Или всё-таки нет?
К примеру, недавно на вашем сайте вышло интервью, в котором речь зашла о таком формате как фильм о фильме, в духе, что «как здорово, что сейчас снимают фильм о фильме, потому что это востребованный и интересный зрителями документальный формат». Но документальное ли это кино? Опять таки – нет. Это хороший формат, но это не документальное кино, потому что настоящий док требует какого-то осмысления. Это не просто: к примеру, демонстрация работы режиссёра на площадке, оператора или актёров или показ каких-то смешных и неудачных дублей. Нет. Неудачный дубль можно показать, но не в плане хохмы, а как процесс режиссёрского поиска… решения, ракурса, взгляда. Только в таком случае начнётся погружение в материал. Или, например, когда съёмочная группа уехала, а вы показываете пустой съёмочный павильон, чтобы запечатлеть некое оставшееся ощущение того, что вот буквально несколько минут назад здесь что-то происходило, кипела жизнь, а сейчас… тишина и одинокие элементы декораций. Вот в таком случае начинается образный ряд, начинается документальное кино.
Но разве пользуются таким киноязыком товарищи, которые снимают «фильм о фильме» и потом выкладывают на платформы? В большинстве случаев нет. Да, подобный контент сегодня крайне востребован, но это не документальное кино. И сам факт наличия такого контента не подтверждает тот самый тренд на возрождение настоящего дока.
— Расскажите, пожалуйста, про работу над фильмом про Галину Волчек.
— Приведу наглядный пример, как я работаю с хроникой и что мне не давало спать ночами. Есть у меня там один небольшой эпизод, 1956 год, начало «Современника», маленький кусочек буквально, к которому мне нужна была ритмическая хроника. Мне необходим был такой монтажный ход, который создавал бы в кадре ритмику. Что это может быть? Движение машин, конечно. Сначала в одну сторону, потом – в противоположную. Это может заставить зрителя акцентировать внимание, так сказать, на подкорке мозга задать вектор движения, что очень важно. И тут мне, что называется, открывается счастье. Я нахожу кадр, как прямо на меня едет поливальная машина, моющая улицы. Та, еще 1956-го года машина! И прямо на меня едет! И поливает! Невероятно, какое точное попадание, прям супер-кадр! Ведь что такое «Современник» в 56-м году? Это революционеры, которые борются против «мертвечины МХАТа». И вот передо мной поливальная машина, которая смывает всю грязь, всю мертвечину… и впереди нас ждёт счастливое будущее. Это великолепный, многообещающий образный ряд, и с ним можно работать, но я… отказался от этого кадра.
— Почему?
— Потому что этот план слишком акцентный. Это, что называется, too much, перебор. И я отказался от него, хотя тоже реально не спал ночь из-за него. Но этот план делал слишком явный акцент, потому что это ведь они, основатели «Современника», с тем МХАТом борются, а не мы. Для нас эти люди – МХАТ – тоже история, и не надо смывать их водой. Нужно очень и очень тонко подходить к таким моментам.
Да, вы справедливо можете сказать, что «Галина Волчек. В поисках интонации» – это ведь тоже более-менее телевизионный формат. Нельзя это однозначно назвать документальным кино, в нём и закадровый голос есть, но вот какой он, этот закадровый голос – другой вопрос. Это всё-таки авторский голос. Вспомните, как разговаривал Михаил Ромм – он не комментировал происходящее на экране, а вёл зрителя за собой. Я стараюсь соответствовать серьёзным нормам больших учителей и не просто объяснять какие-то вещи, а двигать и вести за собой. А вот в «Легендах мирового кино» мне многое приходилось именно объяснять, как раз в силу формата. Мне даже на канале, на «Культуре», просили что-то специально разжевать, прояснить зрителю.
В фильме про Галину Волчек я не разжевываю, многое что-то в лоб не говорится, некоторые вещи предлагаю зрителям додумать, они даны ассоциативным намёком. И это сделано мной намеренно, чтобы зритель задействовал ту часть мозга, которая отвечает не только за зрительное восприятие картинки на экране, но и за умственное.
— В чём ценность фильма «Галина Волчек. В поисках интонации», на Ваш взгляд?
— Я попытался найти своё ощущение этой замечательной женщины не для того, чтобы это ощущение отличалось от чьего-то другого ощущения, а чтобы оно осталось в памяти зрителя и передалось, например, следующему поколению. Если кто-то потом будет этот фильм смотреть, он поймёт её. Я думаю, что мне это удалось. И это очень важно – понять и почувствовать героя, когда имеешь дело с биографиями. Документальное кино, которое даёт воспоминания о той части жизни, которая имела значение в историческом срезе – крайне необходимо, если мы не хотим быть «Иванами, не помнящими родства».
— Сейчас появился ещё один тренд – на региональное кино. Как Вы относитесь к работам авторов из регионов?
— Честно говоря, пока не хватает времени всё смотреть. То, что доходит до меня, и то, что иногда смотрю (не буду называть названия и имена), в большинстве случаев подтверждает уже озвученную мною тенденцию: зачастую это всё-таки развёрнутый репортаж, подборка интервью или – другая крайность – «что вижу, о том пою», которая крайне тяжела для зрительского восприятия. Все-таки кино должно быть интересным, даже якобы авторское. Авторское, кстати, тем более.
Вот как раз зная все эти проблемы, мы и делаем семинар по документальному кино, чтобы была возможность сконцентрировать, осмыслить и передать опыт кинематографистов ЦСДФ современным ребятам, которые планируют снимать документальное кино или наивно полагают, что снимают его.