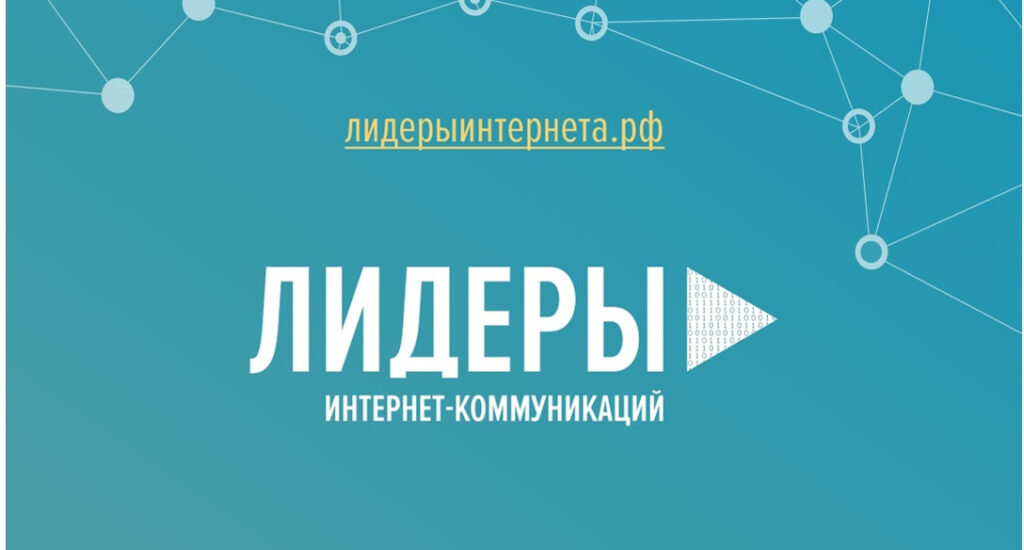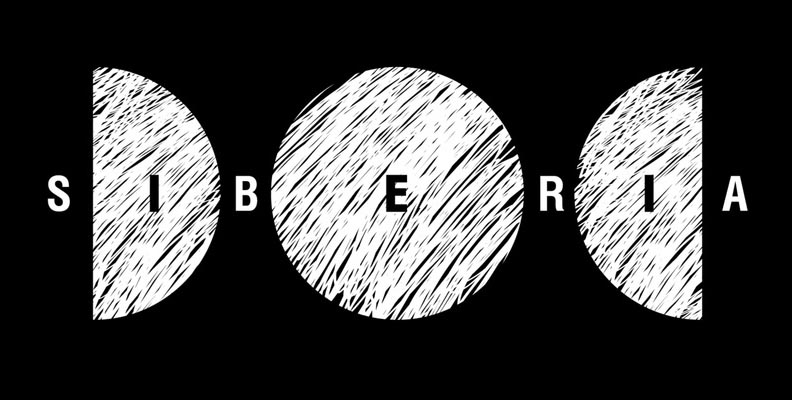На Moviestart стартует совместный проект с Московской школой кино. Выпускники программы «Практическая кинокритика» взяли интервью у своих коллег-кинокритиков. Каждый четверг — новый герой и новое интервью. Не пропустите!
Всеволод Коршунов, кинокритик, киновед и редактор, куратор программы «Практическая кинокритика»:
«Одним из заданий на нашем курсе кинокритики было интервью. Самое главное условие — собеседник должен быть не тем, кто находится в вашей записной книжке и на расстоянии «вытянутой руки», а тем, с кем вы никогда бы не поговорили, если бы не это задание. Пятеро студентов выбрали своих коллег-кинокритиков. Каждое из этих интервью — отважная и страшно интересная попытка исследовать территорию, которую ребятам нужно не просто освоить, но сделать своей, найти на ней свое место. И каждый из собеседников становится проводником: показывает неочевидные тропы, обращает внимание на ловушки и вольно или невольно признается этим краям в любви».
Открывает цикл интервью беседа с Владимиром Лященко. Он писал для «Афиши» и «Газеты.ру», делал видеоэссе для КиноПоиска, а сейчас читает лекции в Московской школе кино, ведет курсы в «Нормальной школе» и рассказывает о культурных артефактах для антропологического проекта EastEast. Настя Тихонова поговорила с Владимиром о культурологии, ностальгии, оптике и коврах.
Вы недавно для проекта EastEast написали текст про «Шахматный» ковер и историю куфеска. Как это произошло и почему вообще ковер и куфеск?
Мне симпатичен сам проект EastEast, который, собственно, посвящен переосмыслению понятия Востока, и который включает в себя много что на самом деле — там востоком может оказаться и Мурманская область. Плюс у меня есть интерес к культурной антропологии и культурологии, поэтому я регулярно соглашаюсь залезть в какую-нибудь неочевидную для моей предыдущей биографии область.
А продолжение какое-то будет?
Вот буквально через несколько дней я должен сдать текст про «Мирадж-наме» — рукопись на тюркском языке, записанную уйгурским письмом. Это довольно уникальная вещь — 60 миниатюр, иллюстрирующих историю вознесения Мухаммеда на небо.
Что для вас в таких исследованиях самое интересное?
В данном случае это немного фетишизм, потому что это любование объектами. Мне, во-первых, интересны они сами, а во-вторых, нравится идеология проекта EastEast — показать, что европоцентричное представление о культуре очень ограниченное. Часто работа на раскрытие неевропейской культуры имеет целью с одной стороны деколонизацию, а с другой просто увеличение узнаваемости, то есть показ того, насколько разнообразна культура, насколько сложно она устроена. Нет, например, какой-то одной, простой и понятной арабской культуры со всеми ее сказочностями, коврами и прочим — это на самом деле сложный клубок взаимовлияющих культур. Его хочется распутывать и показывать, потому что если про классическую европейскую культуру мы довольно много знаем, то про неевропейские культуры мы знаем обычно гораздо меньше. И тем интереснее как раз с ними работать и в них погружаться.
С кино такая же история?
Да, но вот у меня так сложилось, что я все-таки лучше всего ориентируюсь в американском кинематографе. Мне интересно кино за пределами англоязычного мира, и я стараюсь его смотреть, но не могу сказать, что у меня есть какой-то регион или зона, где я чувствую себя компетентным. Я скорее люблю находить людей, которые компетентны, и смотреть, что они находят. Есть, например, корейское кино и Владимир Захаров, есть иранское кино и Катя Долинина.
При этом вы сами как-то читали лекцию про кино Ирана.
Да, был случай. Я его знаю, наверное, лучше, чем в среднем по больнице, но не так хорошо, как люди, которые специально занимаются иранским кинематографом. И меня позвали как учителя на замену, как человека, чьих знаний об иранском кино хватит, условно говоря, на полтора часа обзорной лекции, которые требовались.
Что тоже немало.
Наверное, да, но опять же, я не являюсь специалистом. Это момент, связанный с культурологией в первую очередь. У меня был прекрасный преподаватель по культурологии в университете Александр Львович Доброхотов. У него есть концепция про то, что культуролог — это такой квалифицированный дилетант, он всегда знает, что в определенном периоде или в определенной теме есть специалисты, которые занимаются только ею и гораздо лучше него ориентируются, но у него как у культуролога есть возможность охватить большее количество тем за счет того, что он в них меньше погружается. И это такой выбор: ты можешь либо заниматься какой-то одной темой двадцать лет и достигнуть в ней какой-то глубины, которой другие не достигнут, либо ты можешь выбрать путь культуролога и понемногу интересоваться всем. Это сознательный выбор в пользу того, что ты будешь меньше понимать про отдельные явления, чем люди, которые посвятили им больше времени и сил, но у тебя появится возможность заниматься сопоставлениями и поиском каких-то закономерностей. Я в этом смысле, конечно, тоже чаще всего чувствую себя таким просвещенным дилетантом.

Раз уж зашла речь о сопоставлениях. Вы в фейсбуке писали про «Благоволительниц» Джонатана Литтелла, ссылаясь на отрывок из книги Лорана Бине и статью Григория Дашевского, и упоминали о концептуальной связи Литтелла и Хржановского.
Да, они оказались в каком-то одном смысловом пространстве.
Что это за пространство?
У Хржановского и у Литтелла есть общая логика погружения человека в какой-то созданный автором с мегаломанскими замашками ад, она мне кажется сквозной и там и там. Бине обращает внимание на то, что роман Литтелла очень многие оценивают с точки зрения понятия «банальности зла» при том, что персонаж, который сконструирован автором для того, чтобы покопаться в нем, максимально не встраивается эту концепцию, потому что он вопиюще исключительный по всем характеристикам. И мне, как и Бине, кажется, что Литтелл скорее заточен на то, чтобы шокировать зрителя и получить от него таким образом какую-то реакцию.
А Хржановский?
Хржановский реализует тот же принцип, но на реальных людях, что само по себе является проблемой. Где граница между художественным произведением и социальным экспериментом? Есть люди, которые, разделяют «Дау» как проект и как результат, и вот это разделение в случае «Дау» я не понимаю как возможное чисто с культурологической точки зрения.
Почему?
Потому что это очевидно проект, который включает в себя средства производства, и вообще это не рассматривать довольно странно. Если мы рассматриваем это производство, то мы должны получить ответы на некоторые вопросы, касающиеся непосредственных практик и техник, для того, чтобы судить о произведении. Я вижу, как отношение к тому, что на экране, может меняться от того, что мы знаем о практиках, и не вижу ни одной логически оправданной обратной операции, когда то, что мы видим на экране способно повлиять на отношение к практикам и техникам производства.
А если в итоге получилось что-то выдающееся или великое, что не могло быть сделано как-то иначе?
Это уже разговор про базовые ценности. Я никогда не понимал, как результат искусства может что бы то ни было оправдывать в процессе создания. Для меня все-таки искусство — это надстройка над базисом. То есть ценность человеческой жизни и ее защищенность экономическая, психологическая и физическая важнее, чем любые произведения того, что мы называем искусством. Они могут быть очень значимы с точки зрения существования человека, но никак не могут оказаться важнее того, что находится в базисе.
Это как-то влияет на переоценку произведений искусства из прошлого?
Мы, конечно, можем отдельно оценивать результат, но мне кажется, людям, которые интересуются культурой, тем самым просвещенным дилетантам-культурологам, странно не интересоваться обстоятельствами создания произведения. Мы можем сказать, что само по себе произведение, если мы отделили его от всех обстоятельств, нам по эстетическим или еще каким-то причинам нравится или не нравится, кажется интересно или неинтересно устроенным, мы можем его анализировать отдельно, у нас нет обязательств анализировать его в контексте. Но отсутствие обязательств не означает отсутствие возможности. Если у нас есть возможность проанализировать его в контексте, встроить его в какой-то контекст, показать, как этот контекст меняется, то я не вижу ни одной причины, по которой мы не можем этого сделать. И для меня эти обстоятельства, связанные с людьми и взаимодействием по поводу произведения искусства, всегда интересней, чем произведение само по себе.
Хржановскому, кажется, тоже это интересней.
Да, и в этом смысле как раз апелляции его поклонников и сторонников к тому, чтобы рассматривать само произведение, мне видятся странными, потому что, мне кажется, для Хржановского само произведение не являлось целью, для него целью был процесс. И довольно логично этот процесс обсудить. В моей системе координат этот процесс довольно порочный. Эту систему координат можно объявить консервативной, но мы тут равным образом называем консервативной противоположную точку зрения.
Можете привести пример?
Мне в свое время некоторые реакционные тексты, связанные с metoo и кино, показались интересно устроенными с точки зрения того, что для людей то, что они защищают, — это завоевания условно сексульной революции 60-х, к которым они чувствуют себя в какой-то мере причастными. И я вижу, каким образом из их позиции может казаться, что все то, что сейчас называют новой этикой, является возвращением назад. Но этого «назад», которое они видят, на самом деле не существовало. В моей системе координат это новые договоренности, никак не связанные с воображаемым пуританством эпохи до сексуальной революции. Мы можем обратиться к большому корпусу антропологических и социологических работ, которые рассматривают, насколько то, что являлось непосредственными завоеваниями сексуальной революции, вообще являлось прогрессивным по отношению к предыдущему статус-кво, насколько в нем самом воспроизводились какие-то конструкции неравенства. Для защитников такой «свободы» это прорыв, абсолютное светлое будущее, которое наступило и дальше не нуждается в модернизации — случилась вот такая замечательная сексуальная революция и наступила свобода, мы все ею наслаждались, и теперь какие-то люди хотят ее у нас отнять. А для меня это поступательный процесс. Я вижу, что те отношения, которые наступили, они тоже не совсем про свободу оказались, в них закопано очень много и самого неравенства и воспроизведения этого неравенства. Надо разобраться с тем, как оно было устроено и что можно сделать еще, чтобы дальше систему как-то модернизировать. В этом смысле я верю, что это поступательное движение, а для кого-то это выглядит как движение по кругу. Это проблема оптик, и можно ли добиться представления об одной из этих оптик как об объективной — не знаю, наверное, нет.
Тогда вопрос про оптику. Критик должен быть ангажированным?
Раньше я бы сказал нет. Сейчас — что это выбор критика и, возможно, просто процесс перехода. То есть изначальная позиция, в которой ты находишься, в какой-то момент просто лично для тебя исчерпывается. Сначала, например, ты пишешь о кино как об искусстве ради искусства, рассматривая его герметично в отрыве от антропологических или социальных аспектов, а потом в какой-то момент сближаешься с казалось бы устаревшими установками журнала Screen 50-летней давности и начинаешь рассматривать все через призму социальной и политической реальности. Мне кажется, что это не единственная, но возможная точка зрения. И сейчас лично мне она ближе. В этом смысле мне очень понятен тезис Корнелиу Порумбою, что абсолютно любое кино является политическим.
Почему многих так раздражают разговоры об оптике и ангажированности?
Для меня это большая загадка. На самом деле оптика чаще всего позволяет тебе находить какие-то новые вещи. Критик, который осознает, что его выбор политически ангажирован, скорее всего найдет что-то, что находится за пределами общего поля. И если мы встанем на позицию человека, для которого нашли какой-то редкий странный фильм, то не принципиально, какими критериями, эстетическими или политическими, руководствовались при его поиске. Это просто оптика, с помощью которой для тебя нашли вещь. Дальше это может казаться тебе интересным или неинтересным, но то, что отборщик, а в данном случае критик выступает отборщиком, занимает ту или иную позицию, мне кажется, не должно смущать. Какая разница, чем ангажирован критик, он все равно чем-то ангажирован — своим вкусом, своим политическим взглядом — так или иначе, он чем-то будет ангажирован. И очень странно для меня возмущаться тем, что три человека выбирают кино по своим эстетическим предпочтениям, а четвертый по каким-то другим.
Как быть с тем, что иногда какая-то оптика превращается в единственно правильную?
Если мы говорим, что все это политика, культура политизирована и любое кино можно через эту призму рассматривать, то мы автоматически попадаем в пространство политического. Как в любом политическом поле тут появляются политические агенты, для которых определенные ценности являются центральными и важными. И для них оптика, которую они выбирают, — единственно возможная, без нее с их точки зрения критика теряет свой смысл. Она превращается в обслуживание каких-то интересов, например, в обслуживание киноиндустрии или определенного зрительского интереса. В то время как с их точки зрения будет правильнее заниматься разбором социально-политическим, потому что он позволяет встроить произведение в наделяемый ценностью контекст. Это переход из системы обслуживания в систему коммуникации с реальностью и иногда, но не обязательно, попытка ее даже менять. И, вероятно, для многих это странный переход, потому что кажется, что критика должна быть объективной.
Такое бывает?
Я в такую возможность не верю. Кинокритик может стараться свою точку зрения выстраивать объективно, но ничем ангажированным он быть не может, потому что сама его суперпозиция, которую он выбирает, позиция нейтралитета — это уже выбор. Ты можешь сколько угодно выходить из пространства собственных отношений с реальностью и пытаться занять более объективную точку зрения, но ты все равно будешь находиться в плену каких-то установок. Даже те установки, которые ты выбираешь как нейтральные, уже на самом деле не являются нейтральными. Этот нейтралитет возможен только в объективной и абсолютной системе координат. Но если у нас все релятивистское, если мы предполагаем, что система координат порождается нашими отношениями, тогда внутри этой системы координат объективное будет отличаться от необъективного по субъективным критериям. И для меня этот релятивизм всегда был естественен, просто со временем он сдвинулся от какого-то абстрактного рассуждения в сторону того, что для меня в общественно-политическая реальность является наиболее важной в моменте. При этом сам момент довольно длинный, это не свойство 2020 года, а свойство какого-то периода времени, когда я понимаю, что именно эта оптика и этот контекст лично мне интереснее. Я не могу сказать, что это единственно возможный вариант, но любой другой мне кажется эскапистским, то есть попыткой не смотреть на вещи под тем углом, под которым они реально взаимодействуют с человеком.

По поводу свойства периода времени и эскапизма. Есть ощущение, что сейчас время движется все быстрее и быстрее, но при этом в кино идет постоянное обращение к прошлому. Причем как будто не для того, чтобы разобраться с какими-то проблемами, а чтобы сбежать в теплый и приятный момент, когда было хорошо. Почему ностальгия так сильна? Будущего не будет, в прошлом было лучше?
Ну, можно попытаться связать это с Фукуямой и концом истории, который был объявлен и вроде не случился. Я не возьмусь судить, потому что тут как раз нужна такая исследовательская культурологическая работа, которая позволит нам сказать, является ли нынешний период ностальгии каким-то уникальным, отличается ли он от ностальгии как какого-то общего свойства или элемента культуры, который всегда актуален. Мы всегда хотим вернуться к тому идеальному миру, который был в нашем детстве или, возможно, еще до нашего рождения, и это возвращение эмоционально приятно. Поэтому постоянно происходит реактуализация — сейчас 80-х и 90-х. Это происходит во всех культурных медиумах, но кино и музыка как такие масскультовые два столпа постоянно используют ностальгию как инструмент привлечения внимания. И в этом смысле Тарантино не будет отличаться как эксплуататор ностальгического дискурса от создателей сериала Stranger things. А чтобы понять, есть ли в этом какие-то уникальные моменты, надо посмотреть, насколько, например, в 90-е была распространена ностальгия по 70-м или 60-м. Отдельные примеры, я думаю, мы найдем, но проанализировать, насколько это было массово, насколько это можно было бы назвать трендом, очень тяжело из настоящего момента. У меня таких данных просто нет, есть только какие-то интуитивные суждения.
Что подсказывает интуиция?
Что сейчас ностальгия в таком виде работает, она востребована, она коммерчески успешна и она вся про возвращение к какому-то стабильному состоянию мира, который разрушен. Дальше можно смотреть, что его разрушило. И в случае Тарантино это будет интереснее, чем в случае Stranger things, который чистая эксплуатация 80-х, а у Тарантино это все-таки попытка выстроить альтернативную реальность буквально нарративом. И очень интересно посмотреть, что за странный мир он выстраивает в обратной перспективе, в котором хиппи оказываются такими малоприятными людьми, а два цисгендерных белых мужчины и их абсолютно лишенная гомоэротического подтекста дружба становятся последним оплотом мира. Это все весело анализировать и можно вывести из этого концепцию какого-то взгляда и на Тарантино и на культуру в целом, но в моем случае этот анализ упирается в то, что мне не очень интересен мир, который он выстраивает. И еще есть момент, что ты не понимаешь, создатель этого мира сложнее или наоборот проще, чем ты думаешь. У Тарантино того уровня ирония, что он может остаться таким трикстером, который вроде бы сыграл в ревизию и выстроил очень понятный конфликт между старой гетеронормативностью и какими-то новыми поползновениями в сторону ее уничтожения с разных сторон, но имел ли он в виду всерьез эту критику или нет, мы вряд ли сможем узнать.
А есть в данном случае разница?
Зависит от того, что нас интересует. Если нас интересует, как это произведение работает, то разницы нет, и тут показателен другой пример — «Бойцовский клуб». Спустя лет десять после его выхода появилась критика, которая обращала внимание на то, что «Бойцовский клуб» стал важной единицей в системе координат фратернити — студенческих мужских сообществ, которые довольно токсичны и построены на восхищении Тайлером Дерденом не рефлексивно, а просто потому что это очень привлекательная фигура. И это на самом деле может совершенно не совпадать с тезисом, который при анализе фильма Финчера можно увидеть, и слова Финчера и самого Паланика это тоже подтверждают: Тайлер Дерден не был протагонистом, и фильм занимает по отношению к нему довольно метаироническую позицию. Но так получилось, и он так снят, что эта метаирония считывается очень плохо.
Просто никто не понимает, когда Финчер шутит.
Да, но не то чтобы он плохо пошутил или недостаточно ярко это показал в своем фильме. С одной стороны, он сделал все технически правильно, а с другой, он сделал эстетически привлекательным персонажа, которого он уничтожает и показывает, что это буквально темная сторона героя и его уничтожение — это хэппи энд. И эта эстетизация работает так, что гораздо более сильный эффект производит именно эстетизирующая первая часть, а не разоблачающая вторая. Для меня это не вопрос ответственности, я не стану вменять Финчеру в вину то, что его кино так сработало, или обвинять зрителя в том, что он глупый и не считал то, что заложил в произведение автор, но объективно отрефлексировать это я могу. Я могу сказать: вот посмотрите, как это работает, посмотрите, как это воспринимается такой-то социальной группой. Это просто социальная реальность, так получилось с этим фильмом, и это интересно рассматривать. «Бойцовский клуб» являлся краеугольным камнем в какой-то момент и сохраняет актуальность даже сейчас в отличие от многих фильмов 1999 года, которые остались в истории, а у нас есть инструменты, чтобы проанализировать его в соответствующем социальном контексте.
Почему именно этот фильм до сих пор остается актуальным?
Это, мне кажется, хороший пример в пользу того, что социальная и политическая ангажированность, особенно в случае масскульта и поп-культуры, всегда является интересной оптикой, которая работает. Будучи очевидно политически заряженными, и роман Паланика и фильм Финчера, остаются актуальными просто потому, что в социально-политической действительности остаются актуальны те же проблемы протеста и его фетишизации. «Бойцовский клуб» же во многом про фетишизацию протеста, это такая постмодернистская история, когда нет содержательного ядра, а есть только форма от него, которая вовлекает в себя большое количество последователей. И дальше возникает вопрос: что важнее в протесте — форма или содержание. В этом протесте может показаться, что содержание отсутствует, потому что он очень фетишизированный, но фрустрация, которая приводит к тому, что люди в него вовлекаются, абсолютно реальна и объективна.
С «Джокером» то же самое?
Да, это история про объективную фрустрацию. Мы можем с разных идеологических позиций говорить о том, что она обоснована или ложно обоснована. Для одних это протест против объективной несправедливости общественного устройства, который может быть безадресным и выливаться в уличный погром. А для кого-то это инфантильное желание ломать мебель и повод для пародий в духе Ксении Собчак. Но в любом случае мы попадаем в пространство, где надо применять какие-то культурологические, антропологические, социо-политологические инструменты для рассмотрения реальности, которая стоит за фильмами. И, безусловно, «Джокер» — важное социально-политическое явление. Он может как фильм казаться удачным или неудачным, но то, что он попадает в нерв времени и как-то его задевает, довольно очевидно.
А что насчет его вторичности?
Можно, конечно, отстраниться и сказать, что это эксплуатация фильмов Скорсезе и с этой точки зрения как кино является очень слабым, но даже заняв такую позицию, все равно сложно отрицать его воздействие на культуру в моменте. И тогда интересно, почему эта вторичная и слабая как кино вещь (это не моя точка зрения) оказывается настолько релевантной моменту. Это вопрос интересов — для меня вопрос того, хорошее это кино или плохое менее интересен, чем вопрос о том, в каких отношениях кино с реальностью сейчас находится. Почему «Джокер» и «Паразиты» оказываются востребованы, почему самые мейнстримные, но самые интересные среднебюджетные фильмы последних лет оказываются наиболее релевантны социально-политической реальности, почему они находят такой отклик и почему вся эта общественно-политическая повестка сейчас вот таким образом раскладывается через кино.
Какой фильм последних двух-трех лет лучше других отражает реальность?
Зависит от того, какой срез реальности мы берем. С одной стороны, мы все еще отчасти живем в фильме «После прочтения сжечь» Коэнов, пусть он и снят не в последние два-три года, а двенадцать лет назад. С другой, очень давно ничто так не задевало меня (в хорошем смысле), как «Портрет девушки в огне» — и это костюмное вроде бы кино про двух женщин, где мужчина появляется в кадре примерно два раза, оказывается тоже про мое здесь и сейчас. Или в 2017 году вышла серия «Рика и Морти» Pickle Rick — пришлось даже изобразить список фильмов года, чтобы эту серию поставить на первое место как совершенное по форме и содержанию произведение, тоже неизбежно говорящее о нашей реальности.
Автор: Настя Тихонова